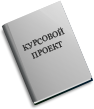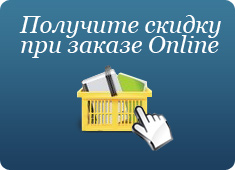Россия и глобализация
Россия сталкивается с серией чрезвычайно трудных дилемм.
По своему экономическому потенциалу она находится в нижней части «второго мира», хотя и обладает рядом уникальных технологий и все еще лучшим, чем в этой группе государств, уровнем образования. Но все эти показатели снижаются.
По степени участия в информационной революции, в процессах интернационализации производства и капитала Россия находится далеко от лидеров второй группы — где-то на 50-м месте в мире. Фактически эта революция пока проходит без нас.
Глобализация предъявляет повышенные требования к компетенции государственного управления, качеству политического класса и интеллектуальной элиты. Здесь предстоит преодолеть очень большое отставание, чтобы сохранить возможность разговаривать на одном профессиональном языке с элитами стран «первого мира».
Конкурентоспособность государства в решающей степени зависит от того, насколько оно способно обеспечить своих граждан — особенно интеллектуальный и политический класс — всей полнотой международной и внутренней информацией. Именно в этом заключается главный смысл информационной безопасности в современном государстве.
Глобализация радикально повышает требования к политике государства в области образования. Все чаще вместо разговоров о «бедных странах» можно услышать о «странах с дефицитом интеллекта». Государства стремятся повысить уровень образования и профессиональной квалификации своих граждан, поскольку конкурентоспособность в решающей степени определяется наличием высокопрофессиональных человеческих ресурсов. Бедным странам оказывается все труднее выдерживать соревнование в этой сфере, к тому же они в первую очередь испытывают проблему «утечки мозгов», что в перспективе ведет к возрастанию экономического и социального неравенства государств. Приоритетом государственного ответа на вызовы глобализации должно быть общее увеличение финансирования сферы образования, особенно в области компьютеризации. Кроме мозгов, возобновляемых ресурсов в России практически нет.
Инфраструктура интеллектуального производства должна обеспечить:
• продвижение имеющихся ценных знаний и технологических достижений на мировой рынок;
• привлечение зарубежных потребителей интеллектуальной продукции в Россию;
• формирование системы размещения иностранных заказов на проведение НИОКР российскими научно-техническими организациями;
• включение России в единое пространство международного технологического обмена и утилизации ценных знаний с использованием методов телеработы и созданием структур оффшорного программирования;
• налаживание международного сотрудничества с ведущими технологическими брокерами, специализирующимся на инновационном бизнесе и обороте ценных знаний на мировых рынках.
Важнейшим направлением формирования инфраструктуры перехода России к постиндустриальному развитию является создание компаний (группы компаний), ориентированных на комплексное решение задач модернизации отечественных систем управления (от подготовки технических заданий и создания проектов реинжиниринга до осуществления системной интеграции и технологической поддержки создаваемых современных комплексов) как для государственных организаций, так и для крупных национальных корпораций.
Приложение 2. Российская ментальность (Материалы «круглого стола» в редакции журнала «Вопросы философии» 1993 г)
(См. «Вопросы философии», 1994, №1)
И.К.Пантин. Национальный менталитет и история России.
…говоря о ментальности, я рассматриваю ее как выражение на уровней культуры народа исторических судеб страны, как некое единство характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в народном сознании, в культурных стереотипах.
… Менталитет, как мне представляется, это — своеобразная память народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся «коду» в любых обстоятельствах не исключая катастрофические…
Поскольку речь идет о менталитете россиян, позвольте несколько иначе, чем принято, прочертить сквозные линии исторического прошлого страны.
Двоякого рода задачи специфичны для истории России на протяжении нескольких столетий. Во-первых, борьба за объединение Руси, за выживание страны перед лицом нашествия иноземных полчищ (татаро-монголы, поляки во времена Смуты, французы, немцы). Во-вторых, модернизация народного хозяйства, обновление общественного и экономического строя («европеизация»). Характерно, что большинство этих задач россияне решали с помощью сильной власти. Вот несколько примеров. Ни Киевской Руси, ни Новгородской не удалось стать основой объединения Руси прежде всего потому, что феодально-торговую аристократию (а в Вильне — феодально-земельную) не поддержали народные низы. И наоборот, поддержка со стороны этих низов Царя Московского, Православного обусловила политическое возвышение, а затем политическую гегемонию Москвы в деле собирания русских земель. Точно так же дело обстояло и по окончании Смуты, когда позиция «мизинных людей», «тяглых мужичков» сыграла решающую роль в восстановлении монархии. (Не случайно И. Солоневич говорил о «народной монархии»).
Можно по-разному объяснять эту особенность исторического прошлого России, но то, что монархическая традиция в сознании народных масс была преобладающей на протяжении веков — вплоть до начала XX в.— отрицать нельзя. Неопределенная общность, бесформенная, мало структурированная, лишенная внутреннего строя, объединялась в критические моменты своего существования вокруг идеи сильной, неограниченной формальными установлениями монархии. И даже тогда, когда царская монархия в результате революции 1917 г. была свергнута, идея сильной (но теперь уже диктаторской) власти нашла в итоге поддержку в народных массах. Вряд ли правильно будет сказать, что россиянин изменяет своему предназначению человека, не способен ценить свободу. Просто-напросто тяжелые испытания, доставшиеся на его долю, научили его жертвовать своими личными правами во имя существования Российского государства…начиная с Петра, мы можем говорить о «догоняющем развитии», «догоняющей модернизации» как особом типе экономического и социального движения России. Вслед за Петром «революцию сверху» осуществит Александр II, а в XX в.— большевики…
Вестернизация оказывается обычно делом меньшинства народа, а в пределе — абсолютистского или тоталитарного государства, и никогда не исходила от народной инициативы. Масса народа, как правило, служила «мясом освобождения» (Герцен), благодаря чему «европеизация» ограничивалась изменением внешних аспектов общественной жизни и превращалась в освобождение из одного рабства во имя другого.
После всего сказанного трудно удивляться тому, что «простому человеку» в России недостает глубокого чувства своей самостоятельности и ответственности, что он не имеет правильного понятия о свободе, осознания границ компетентности государства и компетентностн гражданского общества. Точку опоры политической воли россиянин склонен выносить вовне, связывая ее с верховной государственной властью. На протяжении веков его главное желание относительно власти заключалось в том, чтобы правительство управляло им для него, а не против него. Политическая жизнь, идея гражданского общества, ценность личной свободы, свободы слова до сих пор еще чужда многим россиянам — это означало бы управлять самим, через своих представителей, надеяться в делах исключительно на себя, не ожидать всех благ и всех бед от власти. Вмешательство высшей власти — зовись она царской, партийной, президентской, все равно — все еще, к сожалению, отвечает психологической потребности россиян.
Такого рода гипертрофия надежд на верховную власть объясняется рядом причин. Среди них—огромность пространств России, отрезанность, вследствие плохих средств сообщения, сельского населения страны от городов и столицы, чересполосица культур и цивилизаций, необходимость подчинения отдельных интересов интересам целого, потребность поддержания политической традиции, которая бы сдерживала социальную и национальную конфронтацию и т. п. Однако главная причина, думается, заключалась «в недостатке скрепляющей силы» (Н. Эйдельман), рать которой на Западе играло «третье сословие». Благодаря слабой структурированности народа, отсутствию «третьего сословия», исторической инерции населения, интересы целого в России, как правило, представляла верховная власть — самодержавие или тоталитарное государство.
… Смешались поколения, приобретен другой опыт, идея монархии не является больше ответом на жизненные вопросы народа. И все же то в характере россиян, что породило когда-то монархию в России (а затем тоталитаризм), не ушло окончательно из менталитета народа, до сих пор живо в сознании и привычках россиян. «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание,— прозорливо отмечал Чернышевский,— то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильными и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения». Кто решится сегодня утверждать, что эти черты национального характера россиян уже в прошлом? Далее. Для русского менталитета имеют огромное значение гигантские размеры страны. Благодаря громадным размерам государства, пространственной рассеянности населения, различию укладов, культур, возникает своеобразная историческая инерция, небезразличная к историческим судьбам России. Историческая инерция является, если хотите, роком для нашей страны…
А. С. Панарин Процессы модернизации и менталитет.
... Я начну с первого аспекта, связанного с феноменом социокультурного барьера.
.. новейшие социальные формы, которые … собираются заимствовать — рыночная экономика, парламентарная демократия, правовое государство и т. п. не являются культурно нейтральными. Эти структуры только на поверхности выступают как безразличные к менталитету социальные технологии. … В истории мы неоднократно наблюдаем, как преобразовательная воля иссякла, наталкиваясь на скрытые социокультурные барьеры.
… Наряду с природными инвариантами, выступающими на уровне генетического кода или на уровне биогеоценозов, существуют и инварианты культуры — долговременные структуры архетипического или ценностного порядка. К последним относятся, например, известные десять заповедей…. В истории народов тоже имеются ключевые события этногенеза, влияющие на формирования стереотипов национального поведения и неосознанно воспроизводящихся в каждом новом поколении.
В отличие от других стран и регионов, стабильность которых поддерживается сразу на двух уровнях, , национальном и цивилизационном, Россия прочных цивилизационных скрепок не имеет. У современных западных народов имеется двойная идентичность, национальная («я — француз», «я — немец» и т. п.) и цивилизационная («я — европеец»). Импровизация национального духа здесь корректируются в соответствии с обоими нормами западной цивилизации. У России нет этих метанациональных гарантий. Ее миропотрясательные почины не корректируются своевременно в соответствии с более общими цивилизационными нормами. Ее промежуточное положение между Востоком и Западом сообщает особую хрупкость ее цивилизационным синтезам. Российский реформатор, даже преследуя ограниченные социально-политические цели, всегда рискует задеть те цивилизационные скрепы, которые фиксируют положение страны на осях Север—Юг, Восток—Запад, и тем самым поколебать ее цивилизационную идентичность…
Почему происходит периодически потеря идентичности и поиск ее? По-моему, потому что существует экзистенциальное напряжение — между Востоком и Западом, между традиционной культурой и наукой. Трудно быть русским в мире именно потому, что существуют трудности примирения разных начал. И когда, наконец, примирение достигается, возникает иллюзия, что оно достигнуто навсегда. И тогда возникает огромный духовный подъем, рост государственных сил, национальных мотиваций. И как только это примирение исчезнет, исчезнет сама пассионарность…
..группа, неадаптированная к городским и промышленным условиям, ныне рассматривается как группа более эффективная, чем городские жители. Они сохранили главное — нормы ответственности и даже патриархальной морали, которая парадоксальным образом оказывается более важна, чем такие характеристики, как образование, квалификация, ^рациональность и пр.
В этносоциологии, интенсивно развиваемой в последние десятилетия, показано, что при сравнении США и Японии при равных технологиях японский менталитет несравненно более эффективен за счет того, что японцы сохранили его традиционную структуру, связанную с этикой труда, ответственности, коллективного блага. Все это, вообще-то говоря — немодернистские ценности, однако народ, который их сохраняет, гораздо уютнее себя чувствует в постиндустриальную эпоху, чем тот, кто с ними расстался.
… либеральные ценности Запада — это их собственные ценности. Они соответствуют традициях западных стран. Западный человек в либеральных традициях и ценностях находится у себя, чувствует себя уютно. Я сторонник плюрализма культур и не вижу в либерализме универсальную, общечеловеческую проблему. Для меня либерализм — продукт определенного типа цивилизаций. Люди других обществ, если им навязывается сверху традиция в виде какого-то «великого проекта» и т. д., теряют себя. Поэтому проблема либерализма на Западе и проблема либерализма в России — это, по сути, две разных проблемы. На Западе это проблема, вписывающаяся в цивилизационный контекст, в России же она в этот контекст не вписывается.
В.П.Макаренко. Российский политический менталитет.
Я согласен с А.С.Панариным в том, что для российского менталитета свойственно преувеличенное внимание к специфике общественного развития России, вера в в эту специфику….
В.К.Кантор. Меняется ли российская ментальность.
Ментальность – умственный и духовный строй народа.
..на протяжении тысячелетия, …какие-то коренные особенности оставались… Если верить отечественным романтикам (славянофилам и пр.), то такими особенностями являются общинность, соборность и крепкая православная вера. В 30-е годы прошлого века, этот взгляд обрел каноническую государственную формулу: православие, самодержавие и народность. …Так мы тогда попытались отделиться от Запада. В эпоху недавнюю, ..триада превратилась вроде бы в диаду: партийность и народность. Но суть была та же: роевое, общинно-государственное начало в противовес «гнилому индивидуализму Запада».
Если же обратиться к тем, кто выражал самокритику культуры (Чаадаев и др.), не отрицая ее специфики и самобытности, мы увидим картину более мрачную, но тоже опиравшуюся на конкретные факты, а именно: склонность к отречению народа от своих прав, полное подчинение личности государству, а в моменты народных возмущений — дикий произвол, побеждаемый еще более лютым государственным произволом, сызнова приводящим народ в рабское состояние. Из недавних исторических вариаций на эту тему можно напомнить Октябрьскую революцию и гражданскую войну с их лозунгом (по свидетельству Питирима Сорокина) «все дозволено», на смену которым пришла большевистская тирания, невиданная даже в российской истории, наглядевшейся тиранов.
Разумеется, каждая по отдельности, эти точки зрения вполне односторонни, но они, в общем-то, прекрасно взаимодополняются. К примеру, в ситуации сегодняшней «свободы» больше всего жалоб на распад общинных, коллективистских связей, войну всех против всех, как оно было и в Европе в период первоначального накопления капитала. Человек отделился от государства, и выяснилось, что никакой он не общинник, если не считать общиной мафиозные структуры. Рухнул общественный порядок, а апологеты «неособорности» способны только проливать слезы да мечтать о «крепкой власти», наподобие сталинской, которая живо бы всех вновь вернула в коллектив, или, если исходить из нынешних идеологических реалий, в «православно-коммунистическую общину».
Так что же, заколдованный круг?... Из «мучительства рождается вольность, из вольности рабство»?.. (Радищев). Или еще хлеще у героя «Бесов» Шигалева: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Или вообще принадлежащая нашей стране одна шестая часть суши является своего рода «заколдованным местом» (Гоголь), из которого как ни пытайся уйти, все равно останешься там, где был?.. И ничто не меняется?.. Стоит, однако, обратить внимание на историко-культурные причины, породившие такое состояние дел.
По мнению большинства русских историков, культурологов, философов истории (как романтиков, так и реалистов) тип государства, тип социокультурных отношений, который в той или иной степени продолжается доселе, сложился на рубеже XV—XVI вв. То есть тогда, когда с помощью татар произошла «московизация» Руси (Г. Федотов), затем татарская власть ослабела, была отброшена и образовалось не похожее на западноевропейские (хотя примерно в то же время) централизованное государство. Поколебленное реформами Петра и последующей европеизацией, оно было реанимировано большевиками. Его называли «государством правды» (М. Шахматов), «тоталитарным государством» (Н. Бердяев), «народной монархией» (И. Солоневич), суть же его в следующем.
Все права были у верховной власти, подданные имели только обязанности, но они мирились с этим, поскольку их вынуждали к тому два обстоятельства социально-психологического характера, роль которых в истории много больше, чем мы традиционно считаем. Во-первых, преобладающим моментом была психология осажденной крепости: кругом враги (так оно и было), природных преград никаких, крепость можно построить не из камней (еще С. Соловьев подчеркивал, что в отличие от Европы Россия — страна деревянная, а дерево, как известно, плохая защита, оно горит), а из тел жителей этой крепости (Ф. Нестеров). Поэтому личность не ставилась ни во что, надо всем преобладали интересы государства. Именно этот архетипический фактор народной психологии столь удачно использовали большевики, объявив страну в кольце буржуазной осады. Во-вторых, изолированность и связанный с ней мессианизм. Менялись цари, менялись социальные структуры, но чувство изолированности и мессианизма оставалось. Возникло оно, возможно, как результат византийского наследия, которое через Балканы (Сербию и Болгарию, неудачно претендовавшую на роль Третьего Рима) утвердилось в России, единственной политически независимой страной с православной верой. Отрезанные татарами от Европы, идеологи российского православия принимали восхваления униженных и разгромленных греков, болгар и сербов, что они одни являются спасителями подлинного христианского благочестия. В момент освобождения от многовекового ига это падало на весьма восприимчивую почву и льстило национальному самолюбию. В дальнейшем этот мессианизм претерпел всевозможные модификации и метаморфозы, но пафос остался: мы потому одиноки (но могущественны), что несем свет вечной истины, ибо одиночество — родовое свойство пророков. Не случайно те же большевики так легко отвергли западноевропейский опыт пролетарского движения, наконец-то вроде бы с полным основанием призывая Запад учиться у страны «победившего социализма». Это мессианистическое безумие, начиная с Достоевского, приобрело адептов в широком кругу русской интеллигенции, пусть даже не принимавшей православия или революционаризма, но все равно верившей, что нечто пророческое сейчас совершается именно в России. Например:
и ты, огневая стихни,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!
Это из стихотворения Андрея Белого «Родине», написанного в августе 1917 г. Из этих факторов вырастал российский утопизм, т. е. склонность к футуризму, будетлянству: от Чаадаева и Федорова до Хлебникова и Маяковского. Что это значит? Это значит неприятие жизни сегодняшней и даже завтрашней во имя жизни послезавтрашней. Таков был один полюс — высокой мечты и жажды всемирной гармонии. Но был и другой полюс этого футуристического мессианизма — в реальности пафос будущего вел к идее социальной жертвенности: можно жертвовать собой, своими детьми во имя даже не внуков, а правнуков — в надежде на посмертное (по Федорову) «воскрешение отцов». Дело в том, что «сегодняшняя» жизнь была настолько безысходной, что нормальное «завтра» из этой безысходности никак не вытекало, зато, как звезды из темного и глубокого провала, виделось отчетливо, почти до галлюцинаций, «послезавтра», идущее «через горы времени» (Маяковский) и воспринимавшееся как чудесное преображение.
В VI-м выпуске «Голосов из России» Герцен напечатал «Письмо к издателю «Колокола» (автор до сих пор не известен). Хочу привести оттуда слова, по-чаадаевски сурово и жестко характеризующие нашу ментальность : «Забота об будущем не в нашем духе; на словах готовы мы взвалить на свои плечи хоть все человечество, будем социалисты, демократы, будем говорить об высокой честности с глазами в крови; на деле — боимся всякого труда, всякой мысли, живем настоящей минутой; наш чиновник ворует для того, чтоб покутить, купец мошенничает, чтоб сыну чин доставить, мужик работает, чтоб пьяну напиться. Даже материальной заботы об будущем нет; на того, кто об этом думает, в России показывают пальцами, он предмет насмешек и неприязни». Иными словами, мы видим невероятный, не свойственный, пожалуй, ни одной другой культуре разрыв между мечтой я реальностью, ибо «мечта о будущем» не есть «забота о будущем». Ради мечты можно страдать и сражаться, быть винтиком и кирпичиком, утешая себя мыслями об «общем деле», что «ради всех». Забота требует самостоятельной деятельности, муравьиной хлопотливости в построении собственного дома, труда на себя, что предполагает в культуре независимую личность, которая так и не смогла выработаться в общей массе российского народа, всегда трудившегося на «чужого»: на татар, на казну, на царя, на бар, на партократию. Неумение, непривычка строить сегодняшнюю жизнь приводит к желанию жить «настоящей минутой» (пока «не отобрали» заработанное), не думать о перетекании сегодняшнего дела в завтрашнее (новый хозяин — новые приказы: а сам себе не хозяин), т. е. в реальное будущее, а потому возникают мечты об утопическом прыжке через время, через века, где получат оправдание и сегодняшние бессмысленные страдания, и нелепица жизни. Российская «неевклидова математика», преодоление мира, где «все противоречия вместе живут» (Достоевский), идея «единого мига» (так подробно прослеженная у своих героев тем же Достоевским), предполагающая добиться всего не постепенным многолетним трудом, многовековым развитием, а разом — прыгнув через столетия. Только такой мечтой о будущей всеобщей счастливой и равной жизни можно утешить рабов, к тому же и не знающих иного состояния, кроме принудительной общинной уравниловки. Поэтому и вроде бы осуществленная мечта оборачивалась новой модификацией рабства (как у Шигалева: «все рабы и в рабстве равны»), оставаясь жить в народном сознании я качестве мифической реальности («как хорошо было при Сталине!»), воображенной духовной соборности, «подлинного равенства» и коллективизма.
Так можем ли мы зажить по-другому? Теперешние процессы — говорят они об изменении ментальности или просто разыгрывается очередной вариант сказки про белого бычка, повтор реформ Александра II, расслоение, а потом новый взрыв?.. Да и вообще — может ли меняться ментальность?.. Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. Попробуем порассуждать. Скажем, в XV в. трудно было даже отдаленно предположить, что в этой стране проявится гений такого гуманного и всеотзывчивого, всеевропейского поэта, «славянского Моцарта» (Томас Манн), как Пушкин!.. А ведь появился! И появился целый слой, сословие, которое стало жить интересами культуры, причем открытой всем европейским влияниям, воспитывая своих детей на поэзии Пушкина. А в каком-то смысле это важнее многих социальных реформ. Ибо реформы, т. е. сознательное влияние на жизнь, суть результат появления рефлектирующего слоя: так полагали, к примеру, русские просветители. Русская поэзия стала второй церковью (! – С.В.), по сути заместив сервильное, государственное православие с его казенной верой. Как христианство влияло на человечество, создавая из варваров цивилизованных людей, так русская литература, выросшая на христианстве, оказалась фактором гуманистического просветления русской ментальности. Однако великий самообман российской интеллигенции, попытка перехитрить историческую закономерность, перескочить из российского настоящего в гипотетическое европейское будущее, привели к катастрофе: гуманистические черты были стерты и восстановились, восторжествовали архаические, агрессивные и изоляционистские особенности ментальности, нашедшие на новом историческом витке свое выражение в сталинизме.
Что же происходит в последние годы? Тирания принудительного единомыслия ушла, но многие жалуются: стало легче дышать, но труднее жить. Исчезает духовность, творческое начало. Принуждение политическое сменилось экономико-политическим. Люди не думают о высоком, стали прагматиками, стараются жить на западный манер, «продавая свое духовное первородство за чечевичную европейскую похлебку».
Можно, конечно, ответить банальностью, что тому, кто хочет жить духовно, помех нет, бочка Диогена и служба ночным сторожем всегда возможна, а вообще-то за свободу надо платить, и что ни дай — ничего не жалко. И если культура не сумеет противостоять натиску денежного мешка (хотя противоборствовала государству), то очень обидно, но тогда такую духовность не жалко: во всяком случае западные интеллектуалы, писатели и художники постоянно показывают, что они способны на независимость. Но лучше не говорить банальностей, а посмотреть на конкретные идейно-смысловые сдвиги в нашей культуре за последние тридцать лет. После колоссального выброса энергии, длившегося с 1917 до середины 50-х, русский народ не выдвинул ни одной новой мессианистской доктрины, не воспринял таковой. Основная идея, начиная с Хрущева,— жить не хуже, чем в Европе в Америке («догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и масла!»). Пропал страх перед государством, а также любовь к нему. Уже в 70-е годы в передовых слоях интеллигенции развивается апология частной жизни в противовес коллективно-государственной. А интеллигенция в России задает направленность социально-общественного движения. Октябрьская революция явилась, как полагают весьма многие, результатом усилий русской интеллигенции и русской литературы. Именно поэтому, так говорят теперь, революция семнадцатого года была великим порывом и прорывом к светлому будущему, пусть даже не состоявшимся. А в наши дни торжествует мещанин и спекулянт безо всяких идейных запросов. Но, надо сказать, что и нынешний перелом связан с полувековым (если не больше) стремлением русской интеллигенции (диссидентство и вся потаенная, тамиздатовская и самиздатовская литература) вернуться на тот путь европеизации, с которого она сама помогла сойти России в 1917 г. Именно это и происходит. Причем с невероятной активностью. И характерно, что нынешние патриоты-националисты и неокоммунисты мечтают не о новых победах, а пытаются сохранять хоть что-либо из старого. Речь идет не только о территориальных потерях и приобретениях, но и об идейно-духовном наследии, которое, как им кажется, полностью отвергнуто.
На мой взгляд, это совсем не так. «Чистый» национализм в России никогда не работал, но всегда облекался в идеи всемирности. Только в этом случае можно было ощущать себя носителями высшей истины (будь она идеей Третьего Рима или пролетарского интернационализма — все равно) и испытывать превосходство над непоследовательными, а потому и враждебными иноземцами. И этот основной архетипический механизм культуры, определявший ее ментальность, остался прежним. Его можно назвать склонностью к заимствованию или тягой к всечеловечности, понимавшейся Достоевским как способность к целостному восприятию всей европейской культуры. Только нынче всемирные идеи другие, ибо изменилась геополитическая структура мира,— идеи открытого общества, рыночной экономики,— которые, хоть и в диковатом российском исполнении, уже не ведут к изоляционизму, ибо разрушают жупел «вражеского окружения».
Что же дала эта новая мировая идея? Государственность в коллапсе, а гражданское общество еще не состоялось. Зато слышатся песни бардов: «Везде толкуют о деньгах!» И правда — толкуют. Пропагандируют впервые в истории не верную службу, а умение работать на себя. Забыв о «светлом будущем», все хотят быть уверенными не в послезавтрашнем, а в завтрашнем дне. Но пока по-прежнему живут «настоящей минутой». Слишком укоренен страх перед непредсказуемыми действиями государства, на первый взгляд бессильного, но при том вполне замещающего собой гражданское общество. Точнее сказать, оно бессильно в области защиты человеческой личности, а также потеряло власть и желание принуждать граждан к труду, но как прежде всесильно в своих помехах развитию независимой от него экономики.
Государственные структуры хотят все так же контролировать экономику, чтобы собирать с нее жатву удушающих налогов и взяток. От этой неопределенности в нашей жизни царит по-прежнему беспредел, не регулируемый даже идеологией. Избавленное от коммунистических и партийных обязательств и прикрытий, российское троекуровское хамство стало откровенным. Население растерянно, как больной после гипнотического сна. К работе больше не принуждают, а по-другому еще надо научиться. Поэтому в глазах агрессивность, безумие и тоска по палке, заставлявшей что-то делать. Личность другого все так же ничто. Бытовой пример: машины, почувствовав себя без надзора ГАИ, несутся не обращая внимания на светофоры, травят пешеходов, как озверелые охотники несчастных зайцев. Без палки кажется, что «все дозволено». От реализма западных людей мы еще весьма далеки.
И вместе с тем растет поколение (после двух «небитых» поколений — с середины 50-х), которое не связывает свое надежды на устроение жизни с государством, полагаясь прежде всего на личные усилия, ум, талант, умение и ловкость. Оно жаждет независимости, но что из него получится, выйдет ли оно из стихии спекуляции к организации производства отечественных товаров — бог весть! Научиться работать самостоятельно, без государственного принуждения — задача исторической важности и невероятной сложности. Разрешима ли она? Ясно, что открывшийся путь — это путь не в райскую жизнь, не в светлое будущее, а в очень непростой, не менее жестокий, чем прежний (хотя и по-другому), но все же свободный мир. Выдержит ли эту свободу привыкшая существовать по закону военного времени — закону «палки», закону принуждения — российская ментальность?.. Можно ли тут предсказывать? Во всяком случае очевидно, что многие черты, характеризовавшие до сих пор нашу ментальность, бледнеют, стираются, уходят в прошлое. Исчезает постепенно психология окруженной данайцами Трои, а соответственно проходит и чувства изолированности и «законной гордости», мессианизма и хилиастического будетлянства. Становятся предметом рефлексии национальные мифы — о соборности; об особом пути (после снятия железного занавеса можно было убедиться, что путь каждого народа — особый, все народы по-своему выходили и продолжают выходить из варварских структур безличного коллективизма); о государственности, якобы присущей русскому народу по самой его сути; об общинности, которая, как подтвердил опыт нынешнего столетия, есть не что иное, как фискально-государственный способ держать народ в беспрекословном подчинении (один отвечает за всех, а все за одного — из этой формулы не вывернешься): колхозы, заводские коллективы, бесчисленные партячейки с их принудительным подчинением личности так называемому коллективному решению, а на самом деле — решению начальства...
Один из отечественных современных писателей-эмигрантов где-то заметил, что нынешняя Россия становится и станет столь же скучной, как Бельгия и Голландия. Пока не заметно. Да и то сказать: такой скучной жизни Россия еще не испытывала, она для нее в диковинку, а потому на ближайшую сотню лет и не скучна. Трезвость и благоразумие — это пока для нас нечто новое и необычное. Да уже и хватит, пожалуй, интересовать мир своими бедами и трагедиями, гордясь ими как знаком отличия от других. Во всяком случае, мечты о «красивых и возвышенных» трагедиях — удел людей сытых и жестокосердных, желающих любоваться пожаром извне горящего дома: что-то от психологии Нерона, сжегшего Рим. Россия, конечно же, остается Россией, а российская ментальность — российской ментальностью. И российские проблемы, трудности и особенности никуда по взмаху волшебной палочки не денутся. Но, возможно, завершается, наконец, затянувшийся период детства культуры, уходит инфантильность, «подростковость», наступает зрелость, «взрослость»... Быть взрослым нелегко, больше ответственности, но это и некоторая гарантия от самоубийственных и жестоких поступков, свойственных молодости.
И. К. ПАНТИН. По-моему, нельзя отождествлять сильное и централизованное государство. Такое отождествление нередко в наши дни. Конечно, во времена Ивана Грозного государство, для того чтобы быть сильным, должно стать централизованным. Но в наши дни, если мы будем создавать сильное и централизованное государство, то мы погибнем в конгломерате других государств и народов. Россия может возродиться как сильное авторитетное государство, которое будет опираться на гражданское общество и так называемые места. Ее основная сила — регионы.
Централизация когда-то нас, возможно, и спасла, и вы правы. Но она привела и к катастрофическим последствиям для культуры. Катастрофа может быть еще большей, если мы вновь подменим силу централизацией государства. Наоборот, сила Российского государства — в его авторитетности и в переносе центра тяжести на провинцию, на места
Похожие рефераты: